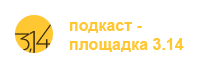Сегодня поговорим с режиссёром-документалистом Юлией Киселёвой о создании научного кино в тесном взаимодействии с учёными. В своих фильмах Юлия развеивает мифы вокруг чипирования, рассказывает о загадках мозга и поднимает тему отношения людей к антропоморфным роботам.

— Юлия, расскажите - о чём именно вы снимали кино?
Первый фильм — «Мозг — вторая Вселенная». Мы рассказывали про исследования мозга, которые проводятся в России. Мы приступили к съёмкам в 2015 году, выпустили фильм в конце 2017. Мы начали с писем, отправляли их в институты с вопросами: «Изучаете ли вы мозг? Что вы делаете? Можно к вам прийти и снять?» Сейчас в мире все бросились изучать мозг. Нам было интересно, что именно в России происходит в этой теме, так получился фильм «Мозг — вторая Вселенная».
Необычно, что мы выпустили фильм в кинопрокат, потому что документальное кино редко выходит на большие экраны, но у нас получилось. Мы были удивлены, что люди толпами шли на фильм. Он держался полтора года в центре внимания, мы проводили премьеры с аншлагами в больших городах! В Новосибирске он шел две недели в «Победе». Потом мы решили выпустить второй фильм про мозг, некое продолжение истории. Он назывался «Мозг эволюции». Выпустили и опять сделали большую премьеру, уже в киноцентре «Октябрь» в Москве. Было больше 1000 человек на премьере! А потом случился COVID, и все наши мечты о большом кинопрокате и аншлагах прервались.
Мы снимали фильм «Робот, я люблю тебя» во время COVID и не знали, откроются ли кинотеатры к моменту выпуска картины, придут ли люди снова. Решили разместить фильм в интернете. Теперь его можно посмотреть на 13 онлайн-платформах. Конечно, мы делали небольшие показы в кинотеатрах, но с совсем небольшой публикой.
Год назад вышел фильм «Чип внутри меня», в апреле 2022 года была премьера. В конце 2022 года — «Вспышки света». Я объединяю их с «Чипом» в некую идеологию, потому что оба фильма про нейропротезирования. Сейчас мы работаем над фильмом про висцеральную теорию сна Ивана Пигарёва. Он тоже связан с мозгом, но ещё и является немного фильмом-портретом.
— Да! Нам пришлось изменить полностью сценарий фильма «Робот, я люблю тебя». Когда работали над ним, думали, что получится международный проект. Нам даже удалось договориться с одним из лучших робототехников города. Мы собрались к нему ехать и не доехали. В итоге: пока снимали фильм во время COVID, поняли, что никаких массовых сцен не будет, потому что они в принципе были запрещены. Правда, мы потихоньку продолжали съёмочный процесс. Только, когда начали снимать ограничения, мы смогли доснять одну массовую сцену с секс-куклой: герой фильма возил её по городу, а мы записывали реакцию людей на то, что он делает. Наверное, это была самая массовая сцена в фильме.
Мы ушли в совершенно камерную локальную историю. Получились сцены в основном только с роботом и человеком. Например, в период съёмок проводили эксперимент, приглашали людей поучаствовать в проекте. Они должны были зайти в комнату и увидеть что-то, мы снимали на это реакцию. В комнате сидел робот-Пушкин, которого сделала компания Neurobotics, в маленькой комнатке. Но робот не просто сидел, а разговаривал с человеком, задавал ему вопросы, философские в том числе. Нам было интересно это снимать реакцию человека. Ведь не до конца понятно, как он будет реагировать, как будет отвечать. Я удивлялась, видя необычные реакции людей, как они общаются с Пушкиным. Эпизод с известнейшим писателем вышел камерной историей, а сам фильм получился совершенно другим, не тем, который мы ждали, но при этом он понравился публике.
— Ну да, я представил себе пустые улицы большого города, потому что все сидят на самоизоляции, и роботы идут. Страшновато... А робот Пушкин разговаривал стихами?
— Нет. Я ему прописала сценарий-скрипт. Впоследствии только 1 человек из эксперимента догадался, что с Пушкиным было что-то не то. Дело было в том, что Пушкин не мог сам разговаривать. Ему нужно было написать текст, нажать на кнопочку, и только тогда он говорил, то есть сам он не мог ничего придумать. Я писала такой диалог, чтобы человек, который зашел к нему, не догадался о том, что робот не сам с ним разговаривает, а что мы ему придумали сценарий. Человек заходил, и Пушкин брал инициативу в свои руки, говорил: Здравствуйте! Проходите, садитесь, пожалуйста. Давайте с вами пообщаемся». Люди были в ступоре, потому что не ожидали видеть там Пушкина. Они обращались к нему на «Вы», с уважением. Всё-таки Александр Сергеевич! Они даже не догадывались, что ему на его вопрос можно задать вопрос. Получалось так, что робот полностью перехватывал инициативу и разговаривал с людьми. Спрашивал даже «Каково это быть человеком?». Мы немножко тут обманули наших участников.
— Это очень напоминает разнообразные, перформативные практики, которые используются в современном искусстве. Хочется поговорить о том, каким вы видите место научного кино в этом переплетении жанров? Ваше кино ближе: к искусству, к документалистике или к журналистике? Может быть, это своя Вселенная? Что вы думаете по этому поводу?
— Давайте распутаем эту паутину! Есть журналистика. Она занимается сбором, обработкой, передачей информации. Есть кино как вид искусства. Искусство отличает авторская точка зрения, художественные образы. Соответственно, любой кинематограф, относится к искусству. Есть разные виды искусства. Например, игровое кино, когда есть постановка с актёрами и не игровое кино, оно бывает анимационное, документальное и научно-популярное. Научно-популярное — вид кинематографа, вид искусства, где режиссёр исследует некие предметы или явление, в отличие от документального кино, где исследуется человек. То есть в научно-популярном кино у нас протагонист не какой-то человек, а какое-то явление. Например, в фильме про чипирование, мы исследуем именно это явление. Выясняем, что это такое? Зачем людям в голову вставляют эти чипы? Если мы снимаем про мозг, значит, наш предмет исследований — мозг, и всё, что с ним связано. Вот это научно-популярное кино. Это вид искусства, кинематограф.
— Вы всё разложили по полочкам, даже нечего уточнять!
— Да, я преподаю еще. У меня есть лаборатория научного кино. Когда я объясняю, как снимать научпоп, важно обратить внимание на то, что это не жанр. Это вид! Когда мы понимаем, что это не жанр, а вид, мы понимаем, что любое кино, в том числе и документальное может обладать неким жанром. Это важно, потому что у нас платформы пишут жанры неправильно: комедия, детектив, документальное кино. На самом деле, внутри документального кино тоже есть и комедия, и детектив, и триллер, но и зритель об этом не задумывается, и режиссеры тоже забывают об этом думать. А когда ты режиссер, когда ты думаешь о том, что можешь снять научно-популярное кино в жанре детектива или в жанре комедии, то твоя художественная палитра становится гораздо шире.
— Вот это да! Это для меня открытие. У вас есть жанр, который вам ближе или вы обычно отталкиваетесь от темы?
— Я люблю вставлять комедийные элементы, потому что понимаю, что я показываю людям научно-популярное кино на широком экране. Я как кинематографист старой школы, училась во ВГИКе и большой кинопрокат важен. Я понимаю, что зритель приходит в кинозал, и ему нужно испытать максимальное количество эмоций, потому что люди в кино приходят не за информацией, а за эмоциями. За информацией они сходят в интернет-портал. Соответственно, мои фильмы нужно обогатить разными эмоциями, поэтому и стараемся, чтобы у нас в проектах были и драма, где можно поплакать, и комедия, где можно посмеятся. Сейчас начали фильм про висцеральную теорию сна. В начале это научный детектив, первые 15 минут. Дальше мы уходим в лирику, а потом где-то появляются и комедийные элементы, У нас сейчас нет чистых видов и жанров, потому что научпоп и док часто бывают с анимацией, появляютя какие-то игровые элементы.
— Я бы хотел поговорить о зрительском восприятии ваших фильмов. Я успел посмотреть только два из них, они вызвали во мне достаточно сильный личный отклик. Во-первых, я смотрел фильм про зрительное протезирование, и у меня есть как раз проблема с близорукостью. Во-вторых, в фильме «Чип внутри меня» говорилось про чип, который излечивает болезнь Паркинсона. Так получилось, что у меня в Новосибирске есть знакомый, которые на себе испытал действие чипа. Здесь я понимаю, что у меня отклик идет на мои личные истории, а вообще вы сталкивались, может быть, с какими-то интересными кейсами? Как зрители воспринимают вот такие непростые темы и вообще научно популярное кино?
— Несколько дней назад у нас была премьера, и мне написала знакомая, которая написала: «Юля, спасибо тебе за фильм про зрение, потому что я решила пойти к офтальмологу и у меня нашли заболевание, которое ещё можно вылечить, и оно не будет прогрессировать». То есть, фильм сподвиг пойти человека к офтальмологу. Но вообще люди по-разному воспринимают. Например, когда мы показывали фильм «Мозг — вторая Вселенная», в котором была история про синэстетов. Синэстеты — обычные люди, ничем не отличающиеся, но которые имеют интересное восприятие. Например, они буквы и цифры видят цветными. Мы видим цвет буквы таким, каким она написана, а у них мозг накладывает на неё свой цвет. У них может быть с рождения буква «А» синяя, они ничего не могут с этим сделать. Но так как это не мешает жить синэстетам, они редко с кем-то это обсуждают и считают, что другие видят мир таким же, они не задумываются об особенности. У нас на показе в Екатеринбурге встала девушка и сказала; «Представляете, я только сейчас поняла, что я синэстет. Я думала, что все люди видят мир так, что у всех эти буквы цветные. Это очень интересно. У меня даже в фильме «Мозг — вторая Вселенная» есть сквозная идея том, что мы все видим мир по-разному. На почве разного восприятия могут даже возникать конфликты. Ведь, если я вижу «А» красной, то буду уверена, что все воспринимают её красной, но кто-то может видеть её зеленой. Это неплохо и нехорошо, это просто разное восприятие.
Ещё яркий пример — женщина в Кирове. Она сказала нам: «Мне 60 с хвостиком лет, а я только сейчас поняла, что у всех разные мозги, все видят мир по разному». Вместе с ней мы говорили и про прозопагнозию. Это особенность восприятия, когда человек не видит лица. Есть две формы восприятия: либо человек вообще не видит лица, то есть глаза, нос, губы не складываются воедино, либо он видит лицо, но моргает и пред ним всплывает другое лицо. Мы знаем парня, который 17 лет чувствовал, что с ним что-то не так, но не понимал, почему все люди видят лица, а он — нет. Из-за этого возникало много конфликтов. Он не узнавал знакомых на улице, те в свою очередь говорили: «Я его встретил, а он даже не поздоровался». Но ведь проблема не в том, что человек не хочет поздороваться, он просто не узнаёт другого. Многие не знают об этом заболевании. На показах и обсуждениях была интересная реакция у людей, которые вдруг задумываются о том, что каждый индивидуален и может видеть мир по-другому.
Про чипы. Мы развеиваем мифы о том, что нам поставят чипы и будут управлять. Мы объясняем, для чего нужны эти имплантаты. Ведь, на самом деле, их вставляют по медицинским показаниям, чтобы не развивалась болезнь Паркинсона, чтобы можно было бороться с дистониями, с ДЦП. На премьере фильма в Перми девушка сказала: «Спасибо вам за этот фильм! Вы изменили мое мнение!». Мы всегда рассчитываем на то, что человек посмотрит фильм и задумается о чём-то. Моя задача как художника — осмысление научных разработок, новых технологий, но кроме того, что я совершенствуюсь сама, учу всегда режиссёров тому, что нужно думать о том, что поменяется у зрителя в голове после просмотра фильма. Если у человека ничего в голове не поменяется, то незачем кино снимать!
— Согласен, если фильм находит отклик, значит, искусство попало в точку. Про синэстетиков. У меня знакомая есть синэстетик. Однажды я ей предложил эксперимент. Чтобы увидеть, как она это воспринимают, мы сели с карандашами и бумагой, начали писать буквы и цифры и раскрашивали их в те цвета, какими она их видит. Это, конечно, сильно расширяет восприятие.
Есть ли у вас стратегия выбора темы? Вы выбираете, из какой-то узкой специализации, например, освещение только свежих открытий и освещаете их, или, может быть, вы ориентируетесь на запрос от аудитории, или просто по сердцу, как вы выбираете тему?
— Освещать свежие открытия нет смысла, потому что это задача журналистов. Здесь у нас снова возникает путаница. Например, как договорим про советское научно популярное кино, многие имеют в виду киножурналы, которые выходили перед художественными фильмами. И показывали, открытия физиков. Это вроде бы и кино, потому что его показывали в кинотеатрах, но по большей части это форматы нынешних новостей. В советское время у научно-популярного кино была информационная функция, а сейчас эта функция перекочевала к журналистам, в Интернет. Зачем нам ждать, пока мы снимем за 2-3 года кино про нейроинтерфейсы, когда за это время уже все поменялось, придумали что-то другое. Наша задача — философское осмысление, поиск ответа на вопрос «Куда идет человечество?».
Моё кино — моя эмоциональная реакция. Почему мы снимали фильм про роботов? Я листала социальные сети и увидела фотографию женщины. Первая эмоциональная реакция — испуг. Я не поняла, почему фотография, вызвала такую реакцию. Подумала, что неудачный ракурс и полистала дальше, а тревога осталась. Через несколько дней увидела в интернете ту же девушку и узнала, что это робот. Мне стало ещё страшнее. Я не отличила робота от человека! Я решила задать окружающим вопрос: «Вы встречаете кого-то на улице, как вы отличите это робот или человек?» Представим, что роботы стали точно такими же как люди. Пришли к выводу, что это никак не понять. Меня заинтересовала тема, решила, что нужно снимать. Так, у нас кино про границу между роботом и человеком.
Про чип. Мне позвонила подруга и сказала: «Я знаю, ты снимаешь кино про мозг. Скажи, пожалуйста, нас ведь не чипируют? Не ставят имплантаты в голову?» Я говорю: «Откуда ты это взяла?». Она: «Мы посмотрели «Бесогон», обсуждаем теперь чипирование, имплантаты, что нами будут управлять». Я: «А в какую часть мозга и что тебе нужно вставить, чтобы тобой управлять?» В общем, она задумалась, а я подумала, что же это такое! Зрители тоже задают эти вопросы, потому что в первом фильме про мозг мы показывали жуков киборгов. Там есть калифорнийский профессор Мишель Махрабист, который вставлял жукам имплантаты, они у него как на пульте управления ими манипулирует. Зрители посмотрели и решили, что нами тоже будут управлять. Мы решили, что нужно рассказать про технологию нейростимуляции, зачем нужны имплантаты. Поэтому выбор темы — моя такая реакция на окружающее, запросы аудитории. Раз об этом говорят люди, значит, нужно снимать кино.
Про Ивана Николаевича Пигарева было немного по-другому. Мне несколько лет подряд разные люди говорили, что я снимаю про науку, а нужно снимать про Пигарева. Не понимала, почему так, а потом узнала, что он интересный человек. Мы с ним сняли интервью, на тот момент не понимая, о чём будет кино. Иван Николаевич сон изучает, соответственно, про сон сняли интервью. Потом пошли искать деньги, но не получалось написать заявку, потом случился ковид, потом еще что-то, а потом он умер. У нас сценарий уже был написан, а герой умер. Мы не знали, что делать. Потом мне написал его сын и предложил продолжить снимать фильм. В следующем году выйдет кино про Ивана Николаевича Пигарева. Получилось оно и про Ивана Николаевича, и про сон, и про исследование сна, и про учёных в советское время. То есть, выбор темы каждый раз по-разному происходит.
— Чувствуется, что за всеми работами стоят невероятные истории, от которых даже дух захватывает, когда вы рассказываете. Теперь понятно, почему фильмы получаются такими глубокими и захватывающими. Мне бы хотелось спросить у вас про визуальные технологии. Поскольку у меня есть опыт популяризации науки, я смотрел многое, знаю, как бывает непросто подобрать визуальный ряд. Можете рассказать про эту сторону вашей работы?
— Здесь с одной стороны просто, с другой — непросто. Мы художники исходим из того, что художественное кино и даже документальное может быть художественным, если ты его решаешь художественными методами. Соответственно, продумывание визуального ряда начинается на стадии подготовки. До того, как ты включил камеру, у тебя есть оператор-постановщик, художник-постановщик. Сейчас мы снимаем фильм с художником. Вместе мы садимся и думаем, как снимем этот фильм. Например, последний фильм про Иван Николаевича. Он живёт в МГУ, профессор. В какой-то момент я подумала, он живет в здании МГУ, работал в советское время в одной из лучших лабораторий нейрофизиологии. У нас есть огромное количество хроники, потому что он сам снимал. Это просто бесценно! У него потрясающие киноархивы, на которых запечатлены ученые 60-70-ых годов. Они стояли у истоков там всего и искусственного интеллекта, и нейрофизиологии в советское время! Все они есть на кинопленках, у них активная бурная жизнь, в своё время в лаборатории учёные даже построили яхту. Представляете, всей командой строили пятнадцатиметровую яхту, потом на ней плавали. А ещё Иван Николаевич — правнук Тютчева. У нас есть Дом Музей Тютчева, где до сих пор живут потомки писателя, Иван Николаевич тоже там жил частично. Мы посмотрели на сложившуюся картину, что у нас есть: МГУ, Дом Музей Тютчева, советская хроника. Начала вырисовываться палитра цветов и стилистика. Решили, что у нас будут тёплые цвета, так как хотелось сделать что-то тёплое по восприятию. Например, выбираем цвет — оранжевый. Дальше мы приезжаем в Сколтех, где проводим эксперимент. Исходя из своей экспликации, начинаем искать нужное оформление для съёмки. Нам дают какое-то пространство, и мы с художником смотрим. Художник говорит: «Нам нужно оранжевое кресло!». Но его, к сожалению, не оказывается. Арендуем его, привозим в Сколтех. Ещё нам становятся нужны подушки. А ещё ЭЭГ. Ставим его куда-то на фон. Вот! С одной стороны, ты всё изначально продумываешь, с другой — попадаешь в новую, незнакомую локацию, где будут проходить съёмки. На месте уже думаешь, что с ней делать, как встроить её в фильм.
Например, мы записывали интервью с Александром Калинкиным, он работает в клинике МГУ, у него было очень мало времени. Мы понимали, что можем только ненадолго приехать записать интервью. Приезжаем, а там негде записывать, просто клиника. Находим маленький уголочек на фоне большого окна, за ним там какой-то вид. Думаем хорошо, погода будет пасмурная, значит, можно на окно снимать, но нам нужно что-то с ним сделать, и мы просто привозим туда много реквизита: лампы, этажерки. Строим небольшой уголочек, чтобы у нас не просто коридор, какой-то клиники был, а, чтобы стилистически и эстетически, картинка была приближена к той концепции, которую мы разработали. Так всё и придумывается.
Потом мы думали, как вставлять хронику. Я не люблю, когда есть просто хроника, она встаёт прямой с клейкой в фильм. Я всегда думаю, как её разместить в том пространстве, которые существуют в фильме. Мы привезли в лабораторию Ивану Николаевичу несколько старых телевизоров, сняли их там, то есть в той же лаборатории, в том же пространстве. Потом эти телевизоры вставили в хронику. Всё идёт от пространства, от атмосферы.
— Вы заговорили на ту тему, к который я хотел подвести, про взаимодействие с учёными. Есть ли у вас какое-то жёсткое разделение зон ответственности, или всё происходит в потоке, прямо сейчас. Как происходит взаимодействие?
— Смотря, что делают учёные в фильме. Например, мы снимали вспышки света с Андреем Демчинским, он офтальмолог, в команде — сенсорный техник, который разрабатывает имплантат, который вставляется в зрительную кору для того, чтобы слепой человек мог что-то видеть. Андрей согласился снимать с нами фильм. Он помогал нам всем абсолютно всем. Мало того, что он снимался в фильме, объяснял все эти научные процессы, Мы с ним несколько интервью записали. Он даже летал с нами в Челябинск! Там жил герой фильма. Без Андрея мы бы не справились, потому что он его давно знает, доверяет.
Когда мы снимали фильм про Ивана Пигарева, был момент, когда мне нужен был эксперимент. Конечно, у нас фильм имел много элементов хроники и на прошлом, на каких-то прошлых исследованиях. Но я хотела, чтобы вот эти прошлые исследования перетекали в настоящее исследование, чтобы показать преемственность, что бы было продолжение. Я ходила и говорила: «Нам нужен эксперимент». Иван Николаевич долго проводил на кошках эксперименты. Их смысл — простой: стимулировались кишечники животных, он смотрел на их реакцию в зрительной коре во время сна, на висцеральную стимуляцию. Смысл его теории в том, что мозг во время бодрствования обрабатывает сигнал от внешней среды, а во время сна переключается на обработку сигналов от внутренних органов, помогая им восстанавливаться во сне. Он проверил, что у кошек действительно во время сна мозг реагирует на кишечник. Иван Николаевич успел провести подобные эксперименты на двух людях, а потом его не стало. А нам нужно было снять эксперимент. Михаил Лебедев, профессор МГУ нам в этом помогал, то есть он просто взял и этот эксперимент организовал, пригласил других ученых, нашел нам ЭЭГ. Более того, он сам стал испытуемым, то есть он глотал кремлевскую таблетку. Это такая таблеточка, которая, как батарейка, она идёт по желудочно-кишечному тракту, стимулирует его. Когда человек спит, в этот момент таблетка стимулирует, а ученые записывают ЭЭГ и видят висцеральные ответы. Кроме того, что он был испытуемым, как учёный он мог ещё анализировать, что с ним происходит. Так что у нас по-разному бывает. Иногда учёный — просто эксперт, который даёт интервью, на какую- то тему, а может и помочь организовать съёмки и побыть в роли испытуемого. Уровень вовлечения может быть разный.
— Скажите, как относятся учёные к явлению, научно-популярного кино? Я часто сталкивался с тем, что научные сотрудники относятся со скепсисом к популяризации науки и иногда даже призывают учёных поменьше читать лекции, побольше читать статьей по своей теме. С какой обратной связью от научных сотрудников вы сталкивались?
— Когда я начинала снимать фильм про мозг, мне было сложно попасть к учёным, потому что мы просто нашли в интернете лаборатории, которые занимаются, примерно, тем, чем нужно. Мы рассылали письма, большая часть ответов была «Нет, мы не хотим общаться с журналистами». Я говорила: «Я не журналист, я кинематографист!». Впоследствии я выяснила, что учёные не знают, что есть документальное кино, что оно еще живо, что я не журналист, а кинематографист. Они просто не понимали, кто это. Это человек, который вроде приходит с камерой, берёт интервью, а говорит, что он не журналист, это как?
Как? Другой подход. Говорили, что мы снимаем кино два года, что мы его точно покажем, все данные проверим. А они жалуются на журналистов, что они не проверяют, искажают её, доносят не то, что надо, пишут громкие заголовки. Но после того, как мы сняли первый фильм, выпустили его в кинопрокат, учёные посмотрели и сказали: «Юль, круто! Если тебе еще что-то нужно, обращайся, мы поможем». Это дорогого стоит! Второй фильм мы снимали уже спокойно, как-то проще стало.
У меня уже есть несколько ученых, которые снимались в разных фильмах. Например, нейрохирург, Артур Батимиров. Он снимался в «Чипе», потом совершенно случайно получилось так, что операцию на обезьяне в Адлере тоже делал. Он снялся и во втором фильме. Кстати, возможно, он будет и в третьем фильме сниматься. Александрия Кульскоплан тоже снялся в четырёх картинах. Учёные соглашаются, они видели мои фильмы, и уже мне доверяют. В этом плане сейчас чуть полегче.
Были и неудачи. Когда мы снимали «Чип», я не смогла уговорить нейрохирурга из Москвы сняться. У нас есть герой фильме — Родион Чумония. Он и в съёмках «Роботах», и в «Чипе» тоже участвовал. У него стоял стимулятор. Я хотела снять нейрохирурга, который устанавливал стимуляторы, а он мне сказал, что не верит журналистам. Началась та же история. Я ему присылала отзывы ученых, фильмы, материалы, но он всё равно не согласился. Нам оказалось проще поехать во Владивосток в медицинский центр ДВФУ и снять Артура Биктимирова. Нас пустили в операционную, мы её сняли. Сам Артур помог найти нам ещё героев. То есть нам было проще уехать во Владивосток и снять всё там, чем здесь договориться с нейрохирургом. Совершенно разные бывают ситуации. Но в целом, из-за того, что выходят некачественные фильмы, программы, то, конечно, это сбивает энтузиазм ученых.
— Да, отношения между научностью и публичностью всегда были непростыми, потому что хорошая популяризация безусловно приносит репутационный успех, но когда продукт не очень, то репутационные потери гораздо хуже. Поэтому действительно учёные часто относятся ко всему этому с подозрением. Скажите, а ваш новый фильм уже готов?
— Нет, нам нужно ещё доснимать. Позавчера мы только посмотрели первую монтажную сборку. Делаем потихоньку, нас ждёт ещё долгий период постпродакшена, графика, анимация, музыка. Мы планируем выход фильма в 2023 или в 2024 году. Кино не быстро делается.
— Давайте с вами сделаем тизер. Расскажите какую-нибудь затравочку. Например, что такое висцеральная теория сна? Почему нам всем стоит ждать выхода этого фильма?
— Это новый взгляд на то, зачем человек спит. Во многих книгах с заголовками «Зачем мы спим?», «Зачем человеку сон?» написано, что учёные, не знают, зачем. Они изучают сон, мозг человека во время сна, но какой-то большой, единой теории, наверное, нет. Есть общепризнанная теория о том, что сон нужен мозгу для того, чтобы информацию перерабатывать. Приходит Иван Николаевич и говорит: «Нет, это совершенно не для этого. Сон вообще мозгу не нужен, потому что…», а дальше детектив. Выясняется, что еще в 19 веке показали, что единственный орган, который не страдает во время сна, во время депривации сна, если лишить сна живое существо, мозг. Страдают больше всего висцеральные органы. Учёные начинают выяснять, почему и что будет, если полностью лишить животное сна. Они долго все исследуют. А дальше детектив, не буду спойлерить. В итоге, Иван Николаевич приходит к выводу, оказывается, сон нужен не для мозга, а для кишечника, сердца и других органов, и эту теорию развивает. Потом приходят другие ученые и говорят: «Мы не согласны, это вообще какая-то ерунда!» Дальше завязываются споры. Собственно, мы пытаемся разобраться в фильме в старой и новой теориях.
Всё любопытно, конечно! Учёные рассказывали, что проводились эксперименты, в которых группа студентов недосыпала всего 1-2 часа от нормы и становились из-за этого более восприимчивы к вирусным инфекциям на 250%! То есть суть в том, что спать нужно, а вот зачем — это уже другой вопрос, это учёные исследуют.
— Получается, мозг не спит, а как бы осуществляет менеджмент сна для остального тела?
— То, что мозг не спит во время сна уже доказано, просто интересно, что же он тогда делает?
—Теперь я точно буду ждать выхода фильма.
Ещё у нас есть лаборатория научного кино, я провела Сколтехе. Это мероприятие про взаимодействие с учеными. Мы провели 16 режиссеров в Сколтех, познакомили с учеными, и у нас режиссеры снимали небольшие фильмы. Это к слову про взаимодействие ученых и режиссеров. Последних пугал тот факт, что нужно серьезно подойти к теме, изучить всё, что можно, чтобы не выглядеть дилетантами. В общем готовились и у нас получился альманах из 16 новелл. Все остались довольны: и режиссеры, и ученые.
—Юлия, в завершении беседы - что пожелаем нашим слушателям, помимо того, чтобы они хорошо высыпались и увеличивали свою сопротивляемость вирусным инфекциям?
— Высыпаться однозначно надо, а в свободное время смотреть хороший док. Он расширяет горизонты восприятие мира.
Первый фильм — «Мозг — вторая Вселенная». Мы рассказывали про исследования мозга, которые проводятся в России. Мы приступили к съёмкам в 2015 году, выпустили фильм в конце 2017. Мы начали с писем, отправляли их в институты с вопросами: «Изучаете ли вы мозг? Что вы делаете? Можно к вам прийти и снять?» Сейчас в мире все бросились изучать мозг. Нам было интересно, что именно в России происходит в этой теме, так получился фильм «Мозг — вторая Вселенная».
Необычно, что мы выпустили фильм в кинопрокат, потому что документальное кино редко выходит на большие экраны, но у нас получилось. Мы были удивлены, что люди толпами шли на фильм. Он держался полтора года в центре внимания, мы проводили премьеры с аншлагами в больших городах! В Новосибирске он шел две недели в «Победе». Потом мы решили выпустить второй фильм про мозг, некое продолжение истории. Он назывался «Мозг эволюции». Выпустили и опять сделали большую премьеру, уже в киноцентре «Октябрь» в Москве. Было больше 1000 человек на премьере! А потом случился COVID, и все наши мечты о большом кинопрокате и аншлагах прервались.
Мы снимали фильм «Робот, я люблю тебя» во время COVID и не знали, откроются ли кинотеатры к моменту выпуска картины, придут ли люди снова. Решили разместить фильм в интернете. Теперь его можно посмотреть на 13 онлайн-платформах. Конечно, мы делали небольшие показы в кинотеатрах, но с совсем небольшой публикой.
Год назад вышел фильм «Чип внутри меня», в апреле 2022 года была премьера. В конце 2022 года — «Вспышки света». Я объединяю их с «Чипом» в некую идеологию, потому что оба фильма про нейропротезирования. Сейчас мы работаем над фильмом про висцеральную теорию сна Ивана Пигарёва. Он тоже связан с мозгом, но ещё и является немного фильмом-портретом.
— Да! Нам пришлось изменить полностью сценарий фильма «Робот, я люблю тебя». Когда работали над ним, думали, что получится международный проект. Нам даже удалось договориться с одним из лучших робототехников города. Мы собрались к нему ехать и не доехали. В итоге: пока снимали фильм во время COVID, поняли, что никаких массовых сцен не будет, потому что они в принципе были запрещены. Правда, мы потихоньку продолжали съёмочный процесс. Только, когда начали снимать ограничения, мы смогли доснять одну массовую сцену с секс-куклой: герой фильма возил её по городу, а мы записывали реакцию людей на то, что он делает. Наверное, это была самая массовая сцена в фильме.
Мы ушли в совершенно камерную локальную историю. Получились сцены в основном только с роботом и человеком. Например, в период съёмок проводили эксперимент, приглашали людей поучаствовать в проекте. Они должны были зайти в комнату и увидеть что-то, мы снимали на это реакцию. В комнате сидел робот-Пушкин, которого сделала компания Neurobotics, в маленькой комнатке. Но робот не просто сидел, а разговаривал с человеком, задавал ему вопросы, философские в том числе. Нам было интересно это снимать реакцию человека. Ведь не до конца понятно, как он будет реагировать, как будет отвечать. Я удивлялась, видя необычные реакции людей, как они общаются с Пушкиным. Эпизод с известнейшим писателем вышел камерной историей, а сам фильм получился совершенно другим, не тем, который мы ждали, но при этом он понравился публике.
— Ну да, я представил себе пустые улицы большого города, потому что все сидят на самоизоляции, и роботы идут. Страшновато... А робот Пушкин разговаривал стихами?
— Нет. Я ему прописала сценарий-скрипт. Впоследствии только 1 человек из эксперимента догадался, что с Пушкиным было что-то не то. Дело было в том, что Пушкин не мог сам разговаривать. Ему нужно было написать текст, нажать на кнопочку, и только тогда он говорил, то есть сам он не мог ничего придумать. Я писала такой диалог, чтобы человек, который зашел к нему, не догадался о том, что робот не сам с ним разговаривает, а что мы ему придумали сценарий. Человек заходил, и Пушкин брал инициативу в свои руки, говорил: Здравствуйте! Проходите, садитесь, пожалуйста. Давайте с вами пообщаемся». Люди были в ступоре, потому что не ожидали видеть там Пушкина. Они обращались к нему на «Вы», с уважением. Всё-таки Александр Сергеевич! Они даже не догадывались, что ему на его вопрос можно задать вопрос. Получалось так, что робот полностью перехватывал инициативу и разговаривал с людьми. Спрашивал даже «Каково это быть человеком?». Мы немножко тут обманули наших участников.
— Это очень напоминает разнообразные, перформативные практики, которые используются в современном искусстве. Хочется поговорить о том, каким вы видите место научного кино в этом переплетении жанров? Ваше кино ближе: к искусству, к документалистике или к журналистике? Может быть, это своя Вселенная? Что вы думаете по этому поводу?
— Давайте распутаем эту паутину! Есть журналистика. Она занимается сбором, обработкой, передачей информации. Есть кино как вид искусства. Искусство отличает авторская точка зрения, художественные образы. Соответственно, любой кинематограф, относится к искусству. Есть разные виды искусства. Например, игровое кино, когда есть постановка с актёрами и не игровое кино, оно бывает анимационное, документальное и научно-популярное. Научно-популярное — вид кинематографа, вид искусства, где режиссёр исследует некие предметы или явление, в отличие от документального кино, где исследуется человек. То есть в научно-популярном кино у нас протагонист не какой-то человек, а какое-то явление. Например, в фильме про чипирование, мы исследуем именно это явление. Выясняем, что это такое? Зачем людям в голову вставляют эти чипы? Если мы снимаем про мозг, значит, наш предмет исследований — мозг, и всё, что с ним связано. Вот это научно-популярное кино. Это вид искусства, кинематограф.
— Вы всё разложили по полочкам, даже нечего уточнять!
— Да, я преподаю еще. У меня есть лаборатория научного кино. Когда я объясняю, как снимать научпоп, важно обратить внимание на то, что это не жанр. Это вид! Когда мы понимаем, что это не жанр, а вид, мы понимаем, что любое кино, в том числе и документальное может обладать неким жанром. Это важно, потому что у нас платформы пишут жанры неправильно: комедия, детектив, документальное кино. На самом деле, внутри документального кино тоже есть и комедия, и детектив, и триллер, но и зритель об этом не задумывается, и режиссеры тоже забывают об этом думать. А когда ты режиссер, когда ты думаешь о том, что можешь снять научно-популярное кино в жанре детектива или в жанре комедии, то твоя художественная палитра становится гораздо шире.
— Вот это да! Это для меня открытие. У вас есть жанр, который вам ближе или вы обычно отталкиваетесь от темы?
— Я люблю вставлять комедийные элементы, потому что понимаю, что я показываю людям научно-популярное кино на широком экране. Я как кинематографист старой школы, училась во ВГИКе и большой кинопрокат важен. Я понимаю, что зритель приходит в кинозал, и ему нужно испытать максимальное количество эмоций, потому что люди в кино приходят не за информацией, а за эмоциями. За информацией они сходят в интернет-портал. Соответственно, мои фильмы нужно обогатить разными эмоциями, поэтому и стараемся, чтобы у нас в проектах были и драма, где можно поплакать, и комедия, где можно посмеятся. Сейчас начали фильм про висцеральную теорию сна. В начале это научный детектив, первые 15 минут. Дальше мы уходим в лирику, а потом где-то появляются и комедийные элементы, У нас сейчас нет чистых видов и жанров, потому что научпоп и док часто бывают с анимацией, появляютя какие-то игровые элементы.
— Я бы хотел поговорить о зрительском восприятии ваших фильмов. Я успел посмотреть только два из них, они вызвали во мне достаточно сильный личный отклик. Во-первых, я смотрел фильм про зрительное протезирование, и у меня есть как раз проблема с близорукостью. Во-вторых, в фильме «Чип внутри меня» говорилось про чип, который излечивает болезнь Паркинсона. Так получилось, что у меня в Новосибирске есть знакомый, которые на себе испытал действие чипа. Здесь я понимаю, что у меня отклик идет на мои личные истории, а вообще вы сталкивались, может быть, с какими-то интересными кейсами? Как зрители воспринимают вот такие непростые темы и вообще научно популярное кино?
— Несколько дней назад у нас была премьера, и мне написала знакомая, которая написала: «Юля, спасибо тебе за фильм про зрение, потому что я решила пойти к офтальмологу и у меня нашли заболевание, которое ещё можно вылечить, и оно не будет прогрессировать». То есть, фильм сподвиг пойти человека к офтальмологу. Но вообще люди по-разному воспринимают. Например, когда мы показывали фильм «Мозг — вторая Вселенная», в котором была история про синэстетов. Синэстеты — обычные люди, ничем не отличающиеся, но которые имеют интересное восприятие. Например, они буквы и цифры видят цветными. Мы видим цвет буквы таким, каким она написана, а у них мозг накладывает на неё свой цвет. У них может быть с рождения буква «А» синяя, они ничего не могут с этим сделать. Но так как это не мешает жить синэстетам, они редко с кем-то это обсуждают и считают, что другие видят мир таким же, они не задумываются об особенности. У нас на показе в Екатеринбурге встала девушка и сказала; «Представляете, я только сейчас поняла, что я синэстет. Я думала, что все люди видят мир так, что у всех эти буквы цветные. Это очень интересно. У меня даже в фильме «Мозг — вторая Вселенная» есть сквозная идея том, что мы все видим мир по-разному. На почве разного восприятия могут даже возникать конфликты. Ведь, если я вижу «А» красной, то буду уверена, что все воспринимают её красной, но кто-то может видеть её зеленой. Это неплохо и нехорошо, это просто разное восприятие.
Ещё яркий пример — женщина в Кирове. Она сказала нам: «Мне 60 с хвостиком лет, а я только сейчас поняла, что у всех разные мозги, все видят мир по разному». Вместе с ней мы говорили и про прозопагнозию. Это особенность восприятия, когда человек не видит лица. Есть две формы восприятия: либо человек вообще не видит лица, то есть глаза, нос, губы не складываются воедино, либо он видит лицо, но моргает и пред ним всплывает другое лицо. Мы знаем парня, который 17 лет чувствовал, что с ним что-то не так, но не понимал, почему все люди видят лица, а он — нет. Из-за этого возникало много конфликтов. Он не узнавал знакомых на улице, те в свою очередь говорили: «Я его встретил, а он даже не поздоровался». Но ведь проблема не в том, что человек не хочет поздороваться, он просто не узнаёт другого. Многие не знают об этом заболевании. На показах и обсуждениях была интересная реакция у людей, которые вдруг задумываются о том, что каждый индивидуален и может видеть мир по-другому.
Про чипы. Мы развеиваем мифы о том, что нам поставят чипы и будут управлять. Мы объясняем, для чего нужны эти имплантаты. Ведь, на самом деле, их вставляют по медицинским показаниям, чтобы не развивалась болезнь Паркинсона, чтобы можно было бороться с дистониями, с ДЦП. На премьере фильма в Перми девушка сказала: «Спасибо вам за этот фильм! Вы изменили мое мнение!». Мы всегда рассчитываем на то, что человек посмотрит фильм и задумается о чём-то. Моя задача как художника — осмысление научных разработок, новых технологий, но кроме того, что я совершенствуюсь сама, учу всегда режиссёров тому, что нужно думать о том, что поменяется у зрителя в голове после просмотра фильма. Если у человека ничего в голове не поменяется, то незачем кино снимать!
— Согласен, если фильм находит отклик, значит, искусство попало в точку. Про синэстетиков. У меня знакомая есть синэстетик. Однажды я ей предложил эксперимент. Чтобы увидеть, как она это воспринимают, мы сели с карандашами и бумагой, начали писать буквы и цифры и раскрашивали их в те цвета, какими она их видит. Это, конечно, сильно расширяет восприятие.
Есть ли у вас стратегия выбора темы? Вы выбираете, из какой-то узкой специализации, например, освещение только свежих открытий и освещаете их, или, может быть, вы ориентируетесь на запрос от аудитории, или просто по сердцу, как вы выбираете тему?
— Освещать свежие открытия нет смысла, потому что это задача журналистов. Здесь у нас снова возникает путаница. Например, как договорим про советское научно популярное кино, многие имеют в виду киножурналы, которые выходили перед художественными фильмами. И показывали, открытия физиков. Это вроде бы и кино, потому что его показывали в кинотеатрах, но по большей части это форматы нынешних новостей. В советское время у научно-популярного кино была информационная функция, а сейчас эта функция перекочевала к журналистам, в Интернет. Зачем нам ждать, пока мы снимем за 2-3 года кино про нейроинтерфейсы, когда за это время уже все поменялось, придумали что-то другое. Наша задача — философское осмысление, поиск ответа на вопрос «Куда идет человечество?».
Моё кино — моя эмоциональная реакция. Почему мы снимали фильм про роботов? Я листала социальные сети и увидела фотографию женщины. Первая эмоциональная реакция — испуг. Я не поняла, почему фотография, вызвала такую реакцию. Подумала, что неудачный ракурс и полистала дальше, а тревога осталась. Через несколько дней увидела в интернете ту же девушку и узнала, что это робот. Мне стало ещё страшнее. Я не отличила робота от человека! Я решила задать окружающим вопрос: «Вы встречаете кого-то на улице, как вы отличите это робот или человек?» Представим, что роботы стали точно такими же как люди. Пришли к выводу, что это никак не понять. Меня заинтересовала тема, решила, что нужно снимать. Так, у нас кино про границу между роботом и человеком.
Про чип. Мне позвонила подруга и сказала: «Я знаю, ты снимаешь кино про мозг. Скажи, пожалуйста, нас ведь не чипируют? Не ставят имплантаты в голову?» Я говорю: «Откуда ты это взяла?». Она: «Мы посмотрели «Бесогон», обсуждаем теперь чипирование, имплантаты, что нами будут управлять». Я: «А в какую часть мозга и что тебе нужно вставить, чтобы тобой управлять?» В общем, она задумалась, а я подумала, что же это такое! Зрители тоже задают эти вопросы, потому что в первом фильме про мозг мы показывали жуков киборгов. Там есть калифорнийский профессор Мишель Махрабист, который вставлял жукам имплантаты, они у него как на пульте управления ими манипулирует. Зрители посмотрели и решили, что нами тоже будут управлять. Мы решили, что нужно рассказать про технологию нейростимуляции, зачем нужны имплантаты. Поэтому выбор темы — моя такая реакция на окружающее, запросы аудитории. Раз об этом говорят люди, значит, нужно снимать кино.
Про Ивана Николаевича Пигарева было немного по-другому. Мне несколько лет подряд разные люди говорили, что я снимаю про науку, а нужно снимать про Пигарева. Не понимала, почему так, а потом узнала, что он интересный человек. Мы с ним сняли интервью, на тот момент не понимая, о чём будет кино. Иван Николаевич сон изучает, соответственно, про сон сняли интервью. Потом пошли искать деньги, но не получалось написать заявку, потом случился ковид, потом еще что-то, а потом он умер. У нас сценарий уже был написан, а герой умер. Мы не знали, что делать. Потом мне написал его сын и предложил продолжить снимать фильм. В следующем году выйдет кино про Ивана Николаевича Пигарева. Получилось оно и про Ивана Николаевича, и про сон, и про исследование сна, и про учёных в советское время. То есть, выбор темы каждый раз по-разному происходит.
— Чувствуется, что за всеми работами стоят невероятные истории, от которых даже дух захватывает, когда вы рассказываете. Теперь понятно, почему фильмы получаются такими глубокими и захватывающими. Мне бы хотелось спросить у вас про визуальные технологии. Поскольку у меня есть опыт популяризации науки, я смотрел многое, знаю, как бывает непросто подобрать визуальный ряд. Можете рассказать про эту сторону вашей работы?
— Здесь с одной стороны просто, с другой — непросто. Мы художники исходим из того, что художественное кино и даже документальное может быть художественным, если ты его решаешь художественными методами. Соответственно, продумывание визуального ряда начинается на стадии подготовки. До того, как ты включил камеру, у тебя есть оператор-постановщик, художник-постановщик. Сейчас мы снимаем фильм с художником. Вместе мы садимся и думаем, как снимем этот фильм. Например, последний фильм про Иван Николаевича. Он живёт в МГУ, профессор. В какой-то момент я подумала, он живет в здании МГУ, работал в советское время в одной из лучших лабораторий нейрофизиологии. У нас есть огромное количество хроники, потому что он сам снимал. Это просто бесценно! У него потрясающие киноархивы, на которых запечатлены ученые 60-70-ых годов. Они стояли у истоков там всего и искусственного интеллекта, и нейрофизиологии в советское время! Все они есть на кинопленках, у них активная бурная жизнь, в своё время в лаборатории учёные даже построили яхту. Представляете, всей командой строили пятнадцатиметровую яхту, потом на ней плавали. А ещё Иван Николаевич — правнук Тютчева. У нас есть Дом Музей Тютчева, где до сих пор живут потомки писателя, Иван Николаевич тоже там жил частично. Мы посмотрели на сложившуюся картину, что у нас есть: МГУ, Дом Музей Тютчева, советская хроника. Начала вырисовываться палитра цветов и стилистика. Решили, что у нас будут тёплые цвета, так как хотелось сделать что-то тёплое по восприятию. Например, выбираем цвет — оранжевый. Дальше мы приезжаем в Сколтех, где проводим эксперимент. Исходя из своей экспликации, начинаем искать нужное оформление для съёмки. Нам дают какое-то пространство, и мы с художником смотрим. Художник говорит: «Нам нужно оранжевое кресло!». Но его, к сожалению, не оказывается. Арендуем его, привозим в Сколтех. Ещё нам становятся нужны подушки. А ещё ЭЭГ. Ставим его куда-то на фон. Вот! С одной стороны, ты всё изначально продумываешь, с другой — попадаешь в новую, незнакомую локацию, где будут проходить съёмки. На месте уже думаешь, что с ней делать, как встроить её в фильм.
Например, мы записывали интервью с Александром Калинкиным, он работает в клинике МГУ, у него было очень мало времени. Мы понимали, что можем только ненадолго приехать записать интервью. Приезжаем, а там негде записывать, просто клиника. Находим маленький уголочек на фоне большого окна, за ним там какой-то вид. Думаем хорошо, погода будет пасмурная, значит, можно на окно снимать, но нам нужно что-то с ним сделать, и мы просто привозим туда много реквизита: лампы, этажерки. Строим небольшой уголочек, чтобы у нас не просто коридор, какой-то клиники был, а, чтобы стилистически и эстетически, картинка была приближена к той концепции, которую мы разработали. Так всё и придумывается.
Потом мы думали, как вставлять хронику. Я не люблю, когда есть просто хроника, она встаёт прямой с клейкой в фильм. Я всегда думаю, как её разместить в том пространстве, которые существуют в фильме. Мы привезли в лабораторию Ивану Николаевичу несколько старых телевизоров, сняли их там, то есть в той же лаборатории, в том же пространстве. Потом эти телевизоры вставили в хронику. Всё идёт от пространства, от атмосферы.
— Вы заговорили на ту тему, к который я хотел подвести, про взаимодействие с учёными. Есть ли у вас какое-то жёсткое разделение зон ответственности, или всё происходит в потоке, прямо сейчас. Как происходит взаимодействие?
— Смотря, что делают учёные в фильме. Например, мы снимали вспышки света с Андреем Демчинским, он офтальмолог, в команде — сенсорный техник, который разрабатывает имплантат, который вставляется в зрительную кору для того, чтобы слепой человек мог что-то видеть. Андрей согласился снимать с нами фильм. Он помогал нам всем абсолютно всем. Мало того, что он снимался в фильме, объяснял все эти научные процессы, Мы с ним несколько интервью записали. Он даже летал с нами в Челябинск! Там жил герой фильма. Без Андрея мы бы не справились, потому что он его давно знает, доверяет.
Когда мы снимали фильм про Ивана Пигарева, был момент, когда мне нужен был эксперимент. Конечно, у нас фильм имел много элементов хроники и на прошлом, на каких-то прошлых исследованиях. Но я хотела, чтобы вот эти прошлые исследования перетекали в настоящее исследование, чтобы показать преемственность, что бы было продолжение. Я ходила и говорила: «Нам нужен эксперимент». Иван Николаевич долго проводил на кошках эксперименты. Их смысл — простой: стимулировались кишечники животных, он смотрел на их реакцию в зрительной коре во время сна, на висцеральную стимуляцию. Смысл его теории в том, что мозг во время бодрствования обрабатывает сигнал от внешней среды, а во время сна переключается на обработку сигналов от внутренних органов, помогая им восстанавливаться во сне. Он проверил, что у кошек действительно во время сна мозг реагирует на кишечник. Иван Николаевич успел провести подобные эксперименты на двух людях, а потом его не стало. А нам нужно было снять эксперимент. Михаил Лебедев, профессор МГУ нам в этом помогал, то есть он просто взял и этот эксперимент организовал, пригласил других ученых, нашел нам ЭЭГ. Более того, он сам стал испытуемым, то есть он глотал кремлевскую таблетку. Это такая таблеточка, которая, как батарейка, она идёт по желудочно-кишечному тракту, стимулирует его. Когда человек спит, в этот момент таблетка стимулирует, а ученые записывают ЭЭГ и видят висцеральные ответы. Кроме того, что он был испытуемым, как учёный он мог ещё анализировать, что с ним происходит. Так что у нас по-разному бывает. Иногда учёный — просто эксперт, который даёт интервью, на какую- то тему, а может и помочь организовать съёмки и побыть в роли испытуемого. Уровень вовлечения может быть разный.
— Скажите, как относятся учёные к явлению, научно-популярного кино? Я часто сталкивался с тем, что научные сотрудники относятся со скепсисом к популяризации науки и иногда даже призывают учёных поменьше читать лекции, побольше читать статьей по своей теме. С какой обратной связью от научных сотрудников вы сталкивались?
— Когда я начинала снимать фильм про мозг, мне было сложно попасть к учёным, потому что мы просто нашли в интернете лаборатории, которые занимаются, примерно, тем, чем нужно. Мы рассылали письма, большая часть ответов была «Нет, мы не хотим общаться с журналистами». Я говорила: «Я не журналист, я кинематографист!». Впоследствии я выяснила, что учёные не знают, что есть документальное кино, что оно еще живо, что я не журналист, а кинематографист. Они просто не понимали, кто это. Это человек, который вроде приходит с камерой, берёт интервью, а говорит, что он не журналист, это как?
Как? Другой подход. Говорили, что мы снимаем кино два года, что мы его точно покажем, все данные проверим. А они жалуются на журналистов, что они не проверяют, искажают её, доносят не то, что надо, пишут громкие заголовки. Но после того, как мы сняли первый фильм, выпустили его в кинопрокат, учёные посмотрели и сказали: «Юль, круто! Если тебе еще что-то нужно, обращайся, мы поможем». Это дорогого стоит! Второй фильм мы снимали уже спокойно, как-то проще стало.
У меня уже есть несколько ученых, которые снимались в разных фильмах. Например, нейрохирург, Артур Батимиров. Он снимался в «Чипе», потом совершенно случайно получилось так, что операцию на обезьяне в Адлере тоже делал. Он снялся и во втором фильме. Кстати, возможно, он будет и в третьем фильме сниматься. Александрия Кульскоплан тоже снялся в четырёх картинах. Учёные соглашаются, они видели мои фильмы, и уже мне доверяют. В этом плане сейчас чуть полегче.
Были и неудачи. Когда мы снимали «Чип», я не смогла уговорить нейрохирурга из Москвы сняться. У нас есть герой фильме — Родион Чумония. Он и в съёмках «Роботах», и в «Чипе» тоже участвовал. У него стоял стимулятор. Я хотела снять нейрохирурга, который устанавливал стимуляторы, а он мне сказал, что не верит журналистам. Началась та же история. Я ему присылала отзывы ученых, фильмы, материалы, но он всё равно не согласился. Нам оказалось проще поехать во Владивосток в медицинский центр ДВФУ и снять Артура Биктимирова. Нас пустили в операционную, мы её сняли. Сам Артур помог найти нам ещё героев. То есть нам было проще уехать во Владивосток и снять всё там, чем здесь договориться с нейрохирургом. Совершенно разные бывают ситуации. Но в целом, из-за того, что выходят некачественные фильмы, программы, то, конечно, это сбивает энтузиазм ученых.
— Да, отношения между научностью и публичностью всегда были непростыми, потому что хорошая популяризация безусловно приносит репутационный успех, но когда продукт не очень, то репутационные потери гораздо хуже. Поэтому действительно учёные часто относятся ко всему этому с подозрением. Скажите, а ваш новый фильм уже готов?
— Нет, нам нужно ещё доснимать. Позавчера мы только посмотрели первую монтажную сборку. Делаем потихоньку, нас ждёт ещё долгий период постпродакшена, графика, анимация, музыка. Мы планируем выход фильма в 2023 или в 2024 году. Кино не быстро делается.
— Давайте с вами сделаем тизер. Расскажите какую-нибудь затравочку. Например, что такое висцеральная теория сна? Почему нам всем стоит ждать выхода этого фильма?
— Это новый взгляд на то, зачем человек спит. Во многих книгах с заголовками «Зачем мы спим?», «Зачем человеку сон?» написано, что учёные, не знают, зачем. Они изучают сон, мозг человека во время сна, но какой-то большой, единой теории, наверное, нет. Есть общепризнанная теория о том, что сон нужен мозгу для того, чтобы информацию перерабатывать. Приходит Иван Николаевич и говорит: «Нет, это совершенно не для этого. Сон вообще мозгу не нужен, потому что…», а дальше детектив. Выясняется, что еще в 19 веке показали, что единственный орган, который не страдает во время сна, во время депривации сна, если лишить сна живое существо, мозг. Страдают больше всего висцеральные органы. Учёные начинают выяснять, почему и что будет, если полностью лишить животное сна. Они долго все исследуют. А дальше детектив, не буду спойлерить. В итоге, Иван Николаевич приходит к выводу, оказывается, сон нужен не для мозга, а для кишечника, сердца и других органов, и эту теорию развивает. Потом приходят другие ученые и говорят: «Мы не согласны, это вообще какая-то ерунда!» Дальше завязываются споры. Собственно, мы пытаемся разобраться в фильме в старой и новой теориях.
Всё любопытно, конечно! Учёные рассказывали, что проводились эксперименты, в которых группа студентов недосыпала всего 1-2 часа от нормы и становились из-за этого более восприимчивы к вирусным инфекциям на 250%! То есть суть в том, что спать нужно, а вот зачем — это уже другой вопрос, это учёные исследуют.
— Получается, мозг не спит, а как бы осуществляет менеджмент сна для остального тела?
— То, что мозг не спит во время сна уже доказано, просто интересно, что же он тогда делает?
—Теперь я точно буду ждать выхода фильма.
Ещё у нас есть лаборатория научного кино, я провела Сколтехе. Это мероприятие про взаимодействие с учеными. Мы провели 16 режиссеров в Сколтех, познакомили с учеными, и у нас режиссеры снимали небольшие фильмы. Это к слову про взаимодействие ученых и режиссеров. Последних пугал тот факт, что нужно серьезно подойти к теме, изучить всё, что можно, чтобы не выглядеть дилетантами. В общем готовились и у нас получился альманах из 16 новелл. Все остались довольны: и режиссеры, и ученые.
—Юлия, в завершении беседы - что пожелаем нашим слушателям, помимо того, чтобы они хорошо высыпались и увеличивали свою сопротивляемость вирусным инфекциям?
— Высыпаться однозначно надо, а в свободное время смотреть хороший док. Он расширяет горизонты восприятие мира.